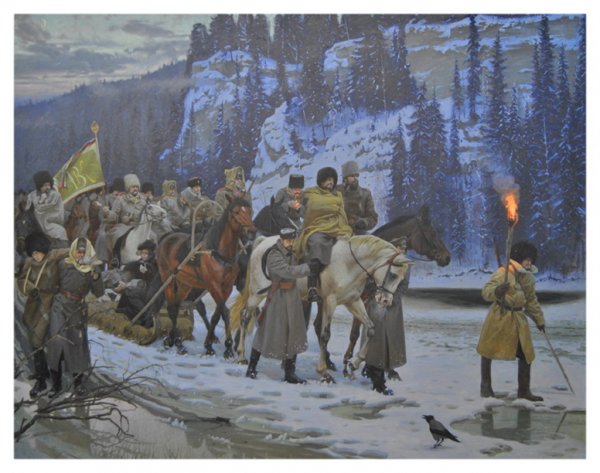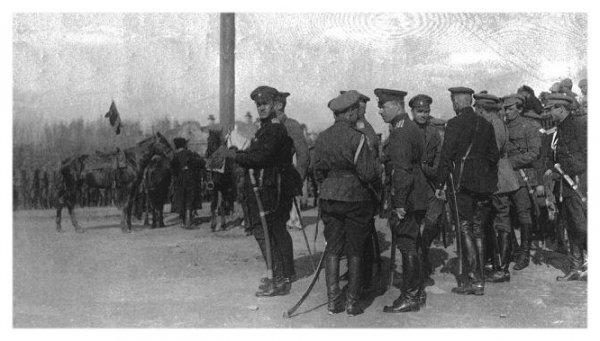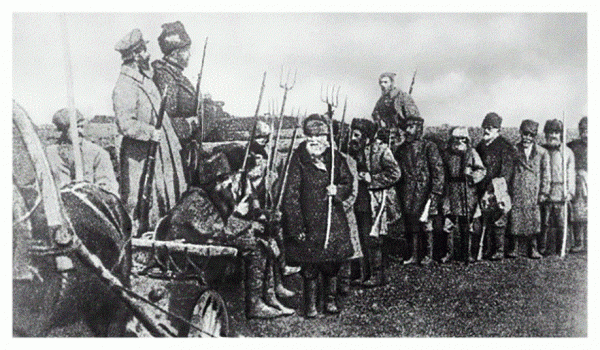Военнопленные Центральных держав в России.
Опубликовал: zampolit, 1-03-2017, 19:07, Путешествие в историю, 1 107, 0

Использование военнопленных для работы в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве с начала Первой мировой войны практиковалось всеми воюющими государствами. В России, производительные силы которой были истощены и подорваны неоднократными мобилизациями основных контингентов трудоспособного мужского населения, уже в конце 1915 и особенно в 1916 г. военнопленные наряду с женщинами и подростками стали основным резервом пополнения рабочей силы. Это относилось как к промышленности (в том числе и работающей непосредственно на войну), так и особенно к сельскому хозяйству.
Регистрация военнопленных в России в годы войны велась целым рядом организаций: Центральным справочным бюро, делопроизводством Генерального штаба, штабом Московского военного округа и др. Однако точных данных о количестве военнопленных Центральных держав, оказавшихся в России, не было.
Только после Октябрьской революции Статистическо-оперативным отделом Центральной коллегии по делам пленных и беженцев на основе картотек бывшего Центрального справочного бюро и штаба Московского военного округа были составлены наиболее полные данные о числе иностранных пленных в России.
Сопоставление сведений дает основание предполагать, что за годы войны в России оказалось 2—2,3 млн. военнопленных. Подавляющую часть их составляли солдаты и офицеры австро-венгерской армии (свыше 1,5 млн. человек). Точное количество военнопленных чехов и словаков установить не представляется возможным. Русские военные власти одно время пытались выяснять численность военнопленных славян, но отрывочные и очень неполные данные, собранные Главным управлением Генерального штаба (по шести внутренним военным округам), не могут помочь в выяснении внимание на массах военнопленных чехов и словаков, разбросанных по сотням лагерей Европейской и Азиатской России.
Основные сведения приходится искать в материалах Союза чехословацких обществ и филиала Чехословацкого национального совета в России. Однако цифры, содержащиеся в документах этих организаций, нельзя считать вполне достоверными. Прежде всего, потому, что обследования мест размещения военнопленных никогда не охватывали всей России (в основном лишь лагеря европейской ее части). Далее, те словаки, которые не желали вступать в чехословацкие воинские формирования, предпочитали нередко называть себя венграми. Наконец, следует учитывать и то, что авторы разнообразных сводок, отчетов, докладных записок, меморандумов и т. л. документов, в силу ряда привходящих обстоятельств сознательно преуменьшали или преувеличивали число чешских и словацких военнопленных. Так, например, ходатайствуя перед царским правительством о расширении полномочий Союза чехословацких обществ, о более интенсивном привлечении чехов и словаков-военнопленных в воинские части, для работ в тылу или для переброски во Францию, чехословацкие политические деятели обычно называли различные цифры в пределах от 200 до 300 тыс. человек. В тоже время в своем кругу, когда делалась попытка объяснения, например, причин того, почему число добровольцев, изъявивших желание вступить в чехословацкие воинские части, незначительно, категорически заявлялось, что 250—300 тыс. военнопленных чехов и словаков — это «легенда».
В современной чехословацкой историографии также не существует общего мнения по этому вопросу. Так, например, И. Веселый считал, что в России было не менее 400 тыс. военнопленных чехов и словаков (из них около 100 тыс. словаков). В. Краль склонен считать их количество равным приблизительно 300 тыс. человек. В. Вавра признает более близкой к действительности цифру 250 тыс. человек (из них около 30 тыс. словаков). Возможно, что военнопленных словаков в действительности было больше 30 тыс., однако представляется, что общее число чехословацких военнопленных не превышало 200—250 тыс. человек.
Выступая на заседании комиссии по военным и морским делам IV Государственной думы в марте 1916 г., представитель военного министерства генерал Беляев отмечал, что первоначально военнопленные не назначались на работы, имеющие непосредственное значение для обороны, а использовались в сельском хозяйстве. Однако уже осенью 1915 г. «ввиду крайнего недостатка рабочих рук на заводах» началось широкое привлечение военнопленных во всех отраслях хозяйства. Первоначально на работах «как наиболее благонадежные» использовались преимущественно военнопленные славяне, но в 1916—1917 гг. труд военнопленных всех национальностей получил самое широкое распространение. Во второй половине 1916 г. количество занятых на различных работах военнопленных достигает миллиона, а к концу 1916 и в первой половине 1917 г. превышает 1,5 млн. человек.
Царское правительство, как и правительства других воюющих держав, рассматривало военнопленных как свою военную добычу. Военнопленные фактически были отданы на произвол местных военных властей, комендантов лагерей и охраны, частных предпринимателей и подрядчиков, которые (и об этом прекрасно были осведомлены центральные власти) не думали выполнять правил, распоряжений и инструкций, долженствующих «регулировать» содержание военнопленных как в лагерях, так и на различных работах.
В привилегированном положении находились офицеры (повышенное денежное содержание, особые лагеря или бараки, освобождение от работ и т. п.). Сознательно и настойчиво разжигалась вражда между славянами, с одной стороны, немцами, австрийцами и венграми — с другой. В то же время чехи противопоставлялись словакам, поляки — украинцам и т. п. Немало усилий было затрачено для того, чтобы использовать - военнопленных как штрейкбрехеров и доносчиков и таким образом противопоставить их рабочему классу России. Эксплуатируемые, забитые, разобщенные массы военнопленных нередко поддавались националистической агитации, иногда провоцировались на конфликты с военнопленными других национальностей, а в ряде случаев становились и штрейкбрехерами.
В начале мая 1916 г. министр внутренних дел Штюрмер созвал совещание губернаторов центральных губерний России с целью получить информацию о положении в стране. На основе материалов совещания Штюрмер составил «всеподданнейшую записку» царю, в которой отмечал, что губернаторов чрезвычайно беспокоит, наряду с волнениями крестьян и фабричных рабочих, ростом оппозиционных настроений буржуазии, также и поведение военнопленных, «которые ведут себя распущенно, дерзко и при малейшей возможности изыскать повод отказываются от исполнения назначаемых им работ». Губернаторы в один голос утверждали, что «отказ от работ — явление заурядное». И причина этого, по их мнению, заключалась лишь в том, что они не располагают возможностью применять против военнопленных меры более строгие, чем арест. «Единственной действительной мерою совещание признало введение телесного наказания», как это практиковалось в арестантских исправительных отделениях и каторжных тюрьмах, причем совещание требовало предоставить такое право не только военным, но и гражданским властям, а чтобы избежать юридических осложнений, предварительно причислять проявляющих сопротивление военнопленных к разряду штрафных, т. е. «юридически опороченных», а затем применять к ним телесные наказания.
Отказ военнопленных от работ, главным образом по причине плохого питания, незаконных вычетов, отсутствия одежды — явление широко распространенное, очевидно, уже в конце 1915 — начале 1916 года. В 1915 году бастовали военнопленные, работавшие на Риддерском руднике на Алтае, на строительстве Бухарской, Мурманской, Западно-Уральской и Казанско-Екатеринбургской железных дорог, причем на последней совместно с русскими рабочими. В начале 1916 г. забастовки военнопленных произошли на Таганрогском металлургическом заводе, Экибазтузских каменноугольных копях, Воскресенской железной дороге и на заводе «Гусь-Хрустальный» во Владимирской губернии. Весной — летом этого же года бастуют военнопленные, занятые на работах в Мариупольском порту, Днепропетровском и Усть-Катавских заводах, происходят волнения среди военнопленных в Средней Азии. В конце 1916 — начале 1917 г. на про- мышлениях предприятиях, строительных, лесных и других работах забастовки и волнения военнопленных становятся явлением почти повсеместным.
Об этом свидетельствуют даже материалы Московской губернии, где военнопленных было относительно немного. 27 декабря 1916 г. забастовали военнопленные, производящие рубку леса в Измайловском удельном имении, за что были подвергнуты строгому аресту; 7 января 1917 г. военнопленные, работавшие в имении графини Бобринской, отказались от работ, «указывая на то, что их почти не кормят»; 12 января военнопленные, работавшие в санатории «Крюково», «в дерзкой форме отказались от работы»; 13 января, требуя освобождения своих арестованных товарищей, забастовали военнопленные, работающие на фабрике товарищества Озерской мануфактуры; в феврале бастовали военнопленные на фабрике товарищества «Франц Рабенек» (с. Болшево), протестуя против несправедливых вычетов; в имении губернского секретаря Сергеева близ Рузы, где им четыре дня не давали хлеба; на строительстве шоссе Вороново — Борщево и в других местах.