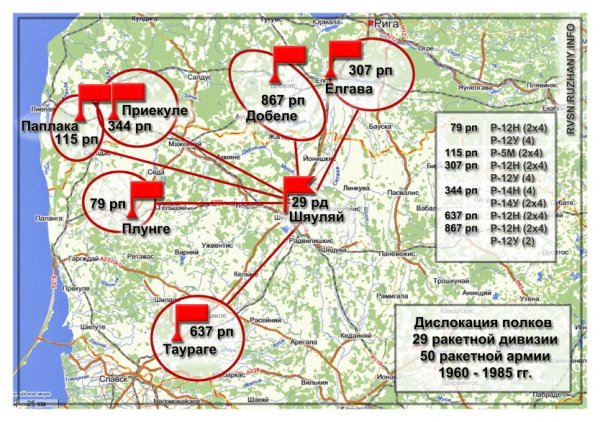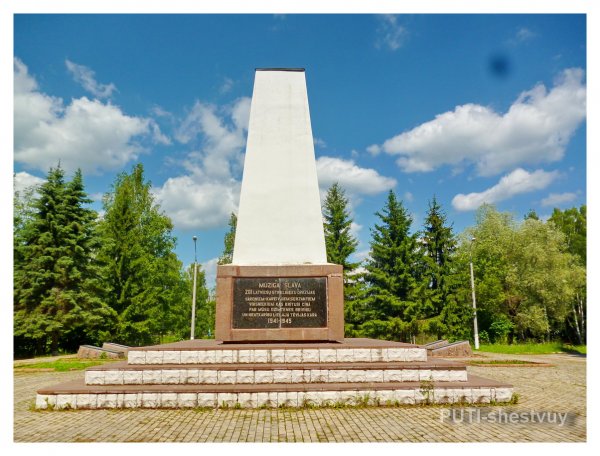Запасные (кадровые) части Сибирской белой армии
Опубликовал: zampolit, 10-12-2016, 19:57, Путешествие в историю, 2 104, 0
Молодые солдаты поступили на укомплектование запасных (кадровых) 157 полков. 1 сентября 1918 г. все запасные части Сибирской армии были переименованы в «кадровые», поскольку, как говорилось в приказе по армии, «с названием запасных частей и бригад связаны печальные воспоминания об их роли в разложении русской армии в 1917 году».
В этих частях новобранцам предстояло пройти первоначальное военное обучение, после чего они должны были пополнить действующие полки Сибирской армии. Еще до объявления призыва территориальная система комплектования армии была признана наиболее оптимальной, как не вызывающая больших передвижений призванных в войска и к которой сочувственно относилось само население. Возможные возражения, что при такой системе войска не могут быть употреблены в случае необходимости для поддержания внутреннего порядка на местах, управляющий Военным министерством признал несущественными. Он полагал, что, во-первых, каких-либо столкновений не ожидается ввиду вполне доброжелательного отношения населения к новой власти и, во-вторых, при больших сибирских расстояниях пункты квартирования воинских частей редко будут совпадать с местами жительства призванных.
В результате призыва новобранцев к 1 октября 1918 г. общая численность Сибирской армии достигла 184,6 тыс. военнослужащих. Ее боевой состав к 3 декабря выражался в 68,3 тыс. штыков и сабель при 86 орудиях и 462 пулеметах.
После непродолжительного обучения уже с середины сентября 1918 г. молодые солдаты стали направляться в действующие на фронте части Сибирской армии. Например, к 17 сентября 1918 г. в 4-ю Сибирскую стрелковую дивизию прибыли 50 новобранцев из 4-го Степного кадрового полка и 66 новобранцев из 6-го Степного кадрового полка; к 19 сентября - 97 новобранцев из 1-го и 3-го Степных кадровых полков. 24 октября в состав 14-го Иртышского полка были зачислены два офицера и 14 новобранцев 8-го Степного кадрового полка. 10 ноября в дивизию прибыли маршевые роты из 1-го Степного кадрового полка (233 чел.), из 2-го Степного кадрового полка (246 чел.), из 3-го Степного кадрового полка (504 чел.), всего 983 новобранца; 14 ноября - из 1-го Степного кадрового полка (240 чел.), из 2-го Степного кадрового полка (209 чел.) и из 4-го Степного кадрового полка (247 чел.), всего 696 новобранцев; 15 ноября - из 4-го Степного кадрового полка (250 чел.)
В общей сложности с конца сентября до конца ноября 1918 г. в 4-ю Сибирскую дивизию влилось не менее 2126 новобранцев. Все они были распределены между действующими полками следующим образом: в 13-й Омский полк - 415 чел., в 14-й Иртышский полк - 469 чел., в 15-й Курганский полк - 478 чел., в 16-й Ишимский полк - 37 чел., в 18-й Тобольский полк - 298 чел., в 20-й Тюменский полк - 469 чел.
Таким образом, ко времени начала решающих боев за Пермь - в конце ноября 1918 г. - 4-я Сибирская стрелковая дивизия почти наполовину состояла из новобранцев.
Несмотря на слабую подготовленность новобранцев, фронтовые начальники давали о них самые благоприятные отзывы. В приказе по Сибирской армии от 30 ноября 1918 г. приводится выдержка из донесения начальника 4-й Сибирской стрелковой дивизии генерал-майора Г. А. Вержбицкого: «Молодые солдаты, приняв боевое крещение, водимые самоотверженными офицерами, ведут себя в боях отлично». В этом же приказе была отмечена выдающаяся стойкость и дисциплина, проявленные в последних боях молодыми солдатами 17-го Семипалатинского и 19-го Петропавловского полков 5-й Сибирской стрелковой дивизии: «Сделав в три дня 170 верст, при полном отсутствии отсталых, они вступили в бой с врагом и дрались выше всякой похвалы целые сутки под сильным дождем, переходя вброд через реки».
В тыловых районах Сибирской армии новобранцы нередко использовались в качестве карательной силы. Так, для «прекращения незаконных собраний» в дер. Марушка Бийского уезда 16 ноября 1918 г. были направлены 20 новобранцев охранной роты 8-го Бийского кадрового полка под командой поручика Корнилова. 17 ноября этот отряд был окружен в названной деревне вооруженной толпой, потребовавшей выдачи офицеров. Солдаты- новобранцы отстояли своих офицеров и с боем пробились из окружения, потеряв убитыми одного офицера и трех солдат.
24 ноября 1918 г. из Тюмени в село Иевлево был выслан отряд, состоящий из двух офицеров и 54 солдат учебной команды 6-го Степного Сибирского кадрового полка, для усмирения бунта конвоируемых в Тобольск дезертиров. За успешно проведенную операцию, результатом которой стало уничтожение 56 бунтовщиков, солдаты учебной команды и руководившие ими офицеры удостоились благодарности командира II Степного Сибирского корпуса.
В целом, однако, кадровые части Сибирской армии не отличались высокой дисциплиной. В конце ноября 1918 г. командир I Средне-Сибирского корпуса генерал А.Н. Пепеляев телеграфировал на имя главного начальника корпусного района: «...до меня доходят сведения, что в тылу дисциплина падает, растет распущенность, процветают пьянство, хулиганство, толпами солдаты бродят по улицам».
Широкое распространение в кадровых частях имело дезертирство. По состоянию на 31 октября 1918 г. в 1-м кадровом полку I Средне-Сибирского корпуса дезертировало 17 % новобранцев, во 2-м полку - 32 %, в 3-м полку -25 %, в 4-м полку - 42 %, в 5-м полку - 20 %. По состоянию на 17 октября 1918 г. «в бегах» находилось 8% списочного состава кадровых частей II Степного Сибирского корпуса164. В кадровых частях III Уральского корпуса из 33955 числившихся по списку солдат к 14 октября 1918 г. дезертировало 1138 человек, или 3 %. И, наконец, в IV Восточно-Сибирском корпусе из 9114 новобранцев, числившихся на 9 октября 1918 г. в списках 3-й Иркутской кадровой бригады, бежало со службы 986 человек, или 11%.
Наибольший процент дезертиров (52 %) был в 12-м Верхнеудинском кадровом полку. Выявляется любопытная закономерность: чем дальше от фронта дислоцировались кадровые части, тем выше в них был процент дезертиров.
Сибирская периодическая печать не оставляла без внимания эту проблему. К примеру, кадетская газета «Народная свобода» осенью 1918 г. старалась фиксировать все случаи поимки дезертиров на территории Барнаульского уезда. В номере от 25 сентября сообщалось, что в с. Савинское милиционеры задержали бежавших из Барнаула новобранцев Т. Конькова, И. Широкова, И. Скопичевского и Я. Боромского. Вероятно, это были первые официально зафиксированные дезертиры, выявленные на территории уезда, чем и объясняется их по-фамильное перечисление. Но вскоре выяснилось, что бегство из кадровых полков носит массовый характер, в силу чего «Народная свобода» стала указывать только количество обнаруженных беглецов.
13 октября газета проинформировала читателей о поимке 27, 18 октября - 45, 22 октября - 12, 24 октября - 43 дезертиров. Только за один день 27 октября начальник 6-го участка уездной милиции в ходе специального рейда обнаружил беглых новобранцев в с. Ребриха (33 человек), в Пановой (8 чел,), в Беловой (9 чел.), в Лебяжьем (28 чел.) и в Боровлянской (31 чел.), а всего - 109 беглецов. После разъяснительной беседы, проведенной милиционерами, родители новобранцев дали подписку о том, что их дети добровольно вернутся в свои воинские части.
Благодаря действиям милиции к началу ноября в населенных пунктах Барнаульского уезда были выявлены почти все дезертиры. 31 октября «Народная свобода» сообщила о поимке четырех человек, 1 ноября — девяти, 2 ноября — пяти, 7 ноября — восьми. Всего же с конца сентября по начало ноября 1918 г., по данным газеты, на территории Барнаульского уезда было обнаружено 266 беглых новобранцев. Все они, за исключением упомянутых выше 109 человек, подлежавших возвращению в свои полки, были направлены в распоряжение Барнаульского уездного воинского начальника.
Командир IV Восточно-Сибирского корпуса генерал А. В. Эллерц-Усов объяснял случаи дезертирства «крайним легкомыслием» новобранцев. В воспитательных целях он приказал 4 октября 1918 г. учредить для всех провинившихся нарукавную нашивку черного цвета с надписью белыми буквами «дезертир». В качестве меры, призванной сократить это пагубное для армии явление, стало введение в частях корпуса телесных наказаний. Однако командованию корпуса так и не удалось предотвратить бегство новобранцев со службы. Проблема дезертирства в корпусе наиболее остро проявилась в связи с отправкой некоторых частей в действующую армию в начале 1919 г.
По сообщению командира IV Восточно-Сибирского тяжелого артдивизиона, по пути на фронт с 26 по 31 января 1919 г. из эшелона сбежало 70 человек. «Побеги... облегчались тем, что из состава данных мне солдат не было ни одного, на которого можно было бы положиться. В двух случаях взводные не только не удерживали своих солдат, но сами подали пример и скрылись».
Осенью и зимой 1918 г. в кадровых частях Сибирской армии имел место ряд эксцессов, некоторые из которых завершились вооруженными восстаниями. Н. И. Блохин, мобилизованный в Сибирскую армию в августе 1918 г., в своих воспоминаниях приводит факт отказа одеть погоны новобранцами седьмой и восьмой рот 5-го Степного кадрового полка. После прибытия в роты начальства под страхом расстрела каждого десятого новобранцы выдали двух зачинщиков, и на этом инцидент был исчерпан. Седьмая рота, по словам Блохина, получила другого, «более строгого» командира.
В начале сентября произошло вооруженное выступление в четвертой роте 7-го Степного кадрового полка, расквартированного в Петропавловске. Военно-полевой суд, состоявшийся 30 сентября 1918 г., приговорил «главных виновников восстания» новобранцев Федорина, Гаржа, Арсеньева и Мостковского к лишению всех прав состояния и смертной казни через расстрел. Командир корпуса утвердил приговор в отношении двух новобранцев, двум другим смертную казнь заменил на бессрочную каторгу.
Первое вооруженное восстание в частях Сибирской армии под антиправительственными лозунгами, получившее общесибирский резонанс, произошло в Томске в ночь на 1 ноября 1918 г. В нем приняли участие солдаты 5-го Томского кадрового полка. Еще в сентябре в полку возникла большевистская военная организация, вскоре распространившая свое влияние на 2-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю, 7-ю, 8-ю и штурмовую роты. Но томский подпольный комитет РКП(б), контакты с которым имели заговорщики, к организации восстания не имел прямого отношения. Само восстание не было должным образом подготовлено и носило стихийный характер. Восставшие захватили штаб полка, разоружили тюремный караул в составе 21 новобранца 6-го Мариинского кадрового полка и освободили находившихся в тюрьме политических и уголовных заключенных. Иных, более решительных, действий организаторы восстания не предприняли. Военные власти довольно быстро восстановили порядок в Томском гарнизоне. На подавление восстания были направлены офицерская рота, учебные команды 5-го Томского и 6-го Мариинского кадровых полков, 1-й Томский кадровый артиллерийский дивизион, эскадрон 1-го Томского кадрового кавалерийского полка.
Вторым, самым резонансным, явилось восстание новобранцев кадровых частей II Степного Сибирского корпуса в Омске в декабре 1918 г. По свидетельству члена Омского подпольного комитета РКП(б) С.Г. Черемных, в этих частях находилась омская молодежь, среди которой оказались и бывшие красногвардейцы. Через них большевики установили связь с новобранцами. В середине декабря в городе уже действовал нелегальный Совет рабочих и солдатских депутатов в составе двенадцати человек. В ночь на 22 декабря 1918 г. большевики планировали поднять в Омске вооруженное восстание. Подпольный военно-революционный штаб рассчитывал, что в восстании примут участие солдаты 1-го, 2-го и 8-го Степных Сибирских кадровых полков, а также артиллеристы 1-го Омского кадрового дивизиона.
В полной мере надежды большевиков не оправдались. Большинство новобранцев не отреагировало на их призывы. Активное участие в восстании приняли солдаты трех команд (саперная, комендантская и связи) 2-го кадрового полка, а также первый батальон и пулеметная команда 8-го кадрового полка. Утром восстание было ликвидировано силами 1-го запасного чехословацкого полка и курсантами унтер-офицерской школы II Степного Сибирского корпуса.
Аналогичные, хотя и меньшего масштаба, события произошли в г. Канске Енисейской губернии. Местные большевики, зная о восстании в Омске, но, видимо, не располагая полной информацией о его результатах, решили выступить в ночь на 27 декабря 1918 г. Опираясь на рабочих, они без особого труда сумели захватить железнодорожный вокзал, почту, телеграф, здания уездной и городской милиции. Незначительное сопротивление они встретили лишь в помещении офицерского собрания. Восставших поддержали новобранцы четырех рот 32-го Канского Сибирского стрелкового полка, расквартированного в военном городке в двух верстах от города.
В полку действовала подпольная большевистская организация, ядро которой составляла группа добровольцев, вступивших в ряды Сибирской армии в целях ее разложения. Но в военном городке восставшие не добились даже временного успеха и были нейтрализованы благодаря энергичным действиям сохранивших верность присяге солдат учебной команды полка и охраны лагеря военнопленных. Порядок в Канске и его окрестностях был наведен 28 декабря после прибытия со ст. Клюквенная отряда полковника Н.Ф. Петухова и казачьей сотни подъесаула А.С. Трофимова.
Вооруженные восстания в Томске, Омске и Канске проходили под большевистским лозунгом восстановления Советской власти. При этом во всех трех случаях организаторы убеждали новобранцев, что советская власть в соответствующих городах и чуть ли не во всей Сибири уже восстановлена, и новобранцам лишь остается присоединиться к победителям. Будучи введенными в заблуждение, молодые солдаты проявляли первоначальный порыв, но затем, осознав себя обманутыми, впадали в растерянность и сдавались на «милость власти».
Антиправительственные настроения не получили широкого распространения среди новобранцев. Все вышеперечисленные выступления удалось быстро ликвидировать, но почва для недовольства новобранцев сохранилась.
Одной из основных причин этого недовольства было неудовлетворительное обеспечение их обмундированием, обувью, теплой одеждой и жилыми помещениями. Крайне плачевное материальное положение новобранцев создавало благоприятную почву для распространения в их среде антиправительственных настроений. Положение усугубляли некоторые офицеры, позволявшие себе рукоприкладство в отношении солдат. Примеров такого рода можно привести довольно много, но при этом следует отметить, что неуставные отношения имели место преимущественно в тыловых гарнизонах Сибирской армии.
Наиболее вопиющий случай произошел в Иркутске вечером 3 сентября 1918 г. Проходивший по Большой улице штабс-капитан С.В. Белоголовый, толкнув какую-то даму, не извинился, а на замечание ее, что нужно быть повежливее, ответил «площадной» бранью. Наблюдавший эту сцену солдат Розенберг заметил своему спутнику, что «хоть с дамами-то можно быть корректнее». Услышав эту фразу, офицер закричал на солдата - что он такое сказал. И когда Розенберг повторил сказанное, с криком «А, так ты жидовская...» выхватил шашку и ударил его по голове. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, а штабс-капитан Белоголовый арестован.
Командир IV Восточно-Сибирского корпуса генерал А. В. Эллерц-Усов 18 ноября 1918 г. приказал арестовать и отправить на Иркутскую гарнизонную гауптвахту командира 10-го Байкальского кадрового полка капитана Н.Н. Рудакова. Ему вменялось в вину то, что еще в октябре 1918 г. он, находясь при исполнении служебных обязанностей, водил по казармам полка задержанного в агитации солдата Унгерова; в присутствии подчиненных бил его руками по лицу, ругал площадной бранью и называл «жидом».
В приказе по Сибирской армии, подписанном генералом А.Ф. Матковским 4 декабря 1918 г., говорилось: «Видел офицера перед пехотным строем с хлыстом в руках. Подобное щегольство неуместно, ибо противоречит военной форме, и опасно, ибо может в случае направления хлыста не туда, куда надо, подвести вспыльчивого начальника под суд. Уверен, что командиры частей выведут подобные явления, если они еще где-либо существуют» .
Неуставные взаимоотношения в кадровых частях Сибирской армии вряд ли имели широкое распространение. Видимо, рукоприкладство командиров в этих частях не выходило за рамки, общепринятые в любой армии. Впрочем, наблюдалась и другая крайность. По свидетельству генерала П.П. Петрова, «офицерский состав кадровых полков в большинстве своем был призван по мобилизации и имел все грехи мобилизованных и главный из них — осторожность в обращении с солдатами, порой даже в нарушение действующих уставов» .
Но что действительно было характерно для офицеров кадровых полков, так это достаточно равнодушное отношение к службе и нежелание или, скорее, неумение стать не только командирами, но и достойными воспитателями молодых солдат. Генерал В.В. Голицын отмечал в приказе по 7-й Уральской дивизии от 27 октября 1918 г., что применительно к воспитанию и развитию сознательности призванных в ряды дивизии молодых солдат дело стояло не на должной высоте. Офицеры, по его словам, «мало, а в некоторых частях и совершенно не беседовали с солдатами по таким основным вопросам, как, например, разъяснение смысла и цели воинской службы и в частности — задач настоящей войны, недостаточно входили в интересы личной жизни новобранцев».
Использованы материалы монографии Д.Г. Симонова "Белая Сибирская армия в 1918 году", Новосибирск, 2010 г.